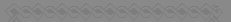Воспоминания сжимают горлоЮрмих…
Борфед… Так они называли друг друга когда-то. Доктор филологических
наук профессор Борис Федорович Егоров по приглашению Эстонского фонда
семиотического наследия приехал в Таллинн читать лекции о Юрии
Михайловиче Лотмане. В аудиториях Таллиннского университета на этих
лекциях были не только студенты, но и те, кому выпало когда-то счастье
учиться в Тарту в годы расцвета кафедры русской литературы…
— Борис Федорович, как это получилось, что лекции о Юрии
Михайловиче Лотмане вы читаете не в Alma mater, где вы столько лет
работали вместе и где прошла практически вся жизнь Ю. М. в науке, а в
Таллиннском университете, имеющем к Ю. М. довольно косвенное отношение?
 — Не приглашали меня в Аlma mater, вот почему. Видно, у руководства университета неблагополучно с деньгами… — Не приглашали меня в Аlma mater, вот почему. Видно, у руководства университета неблагополучно с деньгами…
— Я бы сказал, с чем у них неблагополучно. С этикой. С тем, что Пушкин называл почтением к преданию. И много еще с чем.
— Не знаю. Ну ни разу меня не приглашали. Я и в Варшаве читал лекции, и
в Вашингтоне, не говоря уже о русских городах. В прошлом году читал в
Симферополе.
— Вы ведь дружили лет сорок шесть—сорок семь?
— По-настоящему мы сдружились уже в Тарту. А знакомы… Знакомы были с
46-го года, когда Юрий Михайлович пришел в университет: в солдатских
сапогах и гимнастерке, но не при усах — в мирное время в армии ему
приказали сбрить его роскошные усы. Но в университете он их очень скоро
вновь отрастил.
Я на четыре года моложе его. Но окончил Ленинградский университет
раньше Юрия Михайловича, потому что до войны он успел проучиться год с
небольшим, а потом студентам была отменена отсрочка от призыва в армию,
и его призвали. Так что он прослужил в армии шесть лет, включая четыре
года войны. Но, возможно, этот поворот судьбы спас ему жизнь. Те
ребята, которые прямо со школьной скамьи шли на передовую,
необученными, слишком часто гибли в первом же бою. А призыв Лотмана
все-таки был обученным: целый год их учили.
— У него же была очень опасная военная профессия: артиллерийский разведчик.
— Да: постоянно под пулями, под осколками, переползая под огнем с места на место.
— Личность Юрия Михайловича, судя по всему, еще до конца не раскрыта,
поскольку трудно (если не невозможно) раскрыть личность гения?
— Там многое еще не раскрыто.
— Когда вы ощутили его гениальность?
— Я думаю, в начале 1960-х, когда он вошел в новую для себя область
семиотики и структурализма. Он так ее сразу схватил и так браво начал
переворачивать все наши прежние представления о литературоведении.
— Это самое золотое время, конечно. И я счастлив, что мне повезло учиться в Тарту именно в это время (1964—1969).
— Да, это было прекрасное время. И коллеги-москвичи, в частности
Владимир Николаевич Топоров, тоже уникальная фигура, вспоминали, что
именно тогда их поразили обаяние и мощь личности Лотмана. Видимо, его
харизматичность очень сильно действовала на людей.
— Тогда ему было сорок лет или чуть больше. Но он выглядел уже очень немолодым человеком.
— Он выглядел на добрые пятьдесят, а то и старше. Вы не знаете историю,
как он тогда с маленьким Мишей (Михаил Юрьевич Лотман, ныне доктор
филологических наук, сын Ю. М.) зашел в магазин? Какая-то
старушка, увидев их, запричитала: «Ну вот, какие нынче пошли родители,
сами где-то гуляют, а с сыном дедушку отправили!» Со стороны он казался
дедушкой.
— Сегодня о золотой эпохе семиотики можно только ностальгически вспоминать. Как вы думаете, отчего?
— Я бы не стал делать каких-то обобщений на эту тему. Но, кажется,
тогда играло роль то обстоятельство, что семиотика была запретной или,
как минимум, полузапретной. И это очень привлекало молодежь. И среди
них, разумеется, были очень талантливые люди. Азарт коллективного
нарушения закона действовал. А сейчас, когда все можно, семиотика уже
не кажется такой притягательной.
— Тем более что тут думать надо!
— Это точно: надо! С семиотикой происходит примерно то же самое, что с
политическими анекдотами: в периоды запрета они были довольно остроумны
и толковы. А сейчас увяли…
— Вы и сейчас работаете в Институте истории Российской Академии наук?
— Да, научным сотрудником.
— Почему вы из филологии ушли в историю?
— Это дело рук Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он уже был довольно
старенький, ему было под восемьдесят, и он начал освобождаться от
многих своих должностей. В том числе ему в тягость становилась работа в
редколлегии академической серии «Литературные памятники». И он задумал
меня привлечь — вначале в качестве своего зама, а потом — чтобы я
возглавил редколлегию. Так он впоследствии и сделал. Спросил моего
согласия. А я тогда работал в пединституте им. Герцена и с начальством
часто цапался по кадровым вопросам, и наукой мне хотелось побольше
заниматься, так что я согласился. Единственное условие поставил,
сказав: «Вы уж простите, Дмитрий Сергеич, ужасно я не люблю ваш
Пушкинский дом!». Атмосфера там в то время была тяжелая.
Дмитрий Сергеевич сказал: «Знаете, есть такой милый симпатичный
Институт истории, где я числюсь в ученом совете. Я хорошо знаю
директора, хорошо знаю обстановку — он совсем не похож на Пушкинский
дом». И вот я уже 30 лет в этом институте, и спасибо академику Лихачеву
за то, что он меня туда поставил!
— Институт занимается современной историей тоже?
— Там есть отдел современной истории.
— Я спросил потому, что история относится к тем наукам, которыми
слишком часто манипулируют. Вспоминается афоризм Джорджа Оруэлла
«Прошлое нашей страны непредсказумо!».
— Это да. Но я поставлен Лихачевым руководить «Литературными памятниками» — и занимаюсь своим прямым делом.
— К
профессиональным историкам это, конечно, отношения не имеет, но…
Существует на телевидении такой проект — «Имя Россия». Какой
исторический деятель достоин, чтобы его имя олицетворяло Россию… Вы
следите за этим?
— Ну, это чушь собачья! Существуют десятки наших почтенных
знаменитостей, ну и слава Богу! А сидеть и выбирать единственного… Да
еще когда Сталин там чуть ли не на первом месте…
— Вы часто вспоминаете о Тарту?
— Конечно! Ведь это наша молодость. Для меня Эстония и Тарту если и не
вполне родина, то что-то вроде того. Вот сейчас я три дня пробыл в
Тарту… Впечатления необычайно сильные. Горло сжимают воспоминания
молодости.
— А в университет вы заходили?
— Нет. Мимо прошел. А на кафедру заходил. Они там даже прием мне
устроили. По-моему, они неплохо устроены. Во всяком случае, наукой
занимаются.
— Возможна ли сейчас атмосфера, которая была на кафедре русской литературы тогда — при вас, при Лотмане?
— Наверное, возможна. Но для этого нужен человек, который бы все
возглавил, все закрутил, создавал бы международные симпозиумы: сейчас
это легче, чем тогда. В крупных центрах, как Москва и Питер, на
кафедрах бывает по семь-восемь профессоров, но нет одного, вокруг
которого бы все крутилось, — и там живут разрозненными группами. А в
провинции, как правило, есть один большой талант, который собирает
вокруг себя людей, и возникает школа.
— Сейчас не самое лучшее время для гуманитарных наук, вы не находите?
— Да как сказать… Все-таки наука сейчас свободна. Другое дело — мы
сейчас сами немного опущены. Люди мало читают. Чтобы гуманитарные науки
развивались, нужны большие цели и перспективы. А у нас народ живет
сегодняшним днем, и это создает некоторую вялость мысли. По крайней
мере, мне так кажется.
Борис Федорович Егоров
(род. 1926 г.) — коллега и товарищ Ю. М. Лотмана на протяжении почти
полувека, доктор филологических наук, видный специалист по истории
русской литературы и общественной мысли XIX века. В 1948 году окончил
филфак ЛГУ, в 1952-1962 гг. был преподавателем Тартуского университета,
в 1954-1960 гг. заведовал кафедрой русской литературы. В 1968-1978 гг.
— профессор, заведующий кафедрой русской литературы Ленинградского
государственного педагогического института имени А. И. Герцена. С 1978
г. — научный сотрудник Института истории Российской Академии наук.
Автор более 500 научных работ (в т. ч. 17 книг). Основные монографии: О
мастерстве литературной критики (Л., 1980), Очерки по русской культуре
ХIХ века (М., 1996), Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана (М.,1999), От
Хомякова до Лотмана (М., 2003), Российские утопии (СПб., 2007).
0 |