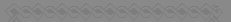Батюшки и Хупель (часть IV)
Между
тем, в ту самую пору, когда Фельман примерял к родному языку поэтические
размеры Гомера и Горация, эстонская речь стала объектом внимания не только
прибалтийских немцев (и доселе дотошно изучавших её), но и псковского
православного духовенства, впервые осознавшего потребность в систематическом
изучении эстонского языка русскими семинаристами. Происходит это в сороковых
годах XIX столетия. В частности, об этом свидетельствует датируемое 1841 годом
послание Синоду архиепископа Натанеля. "Принадлежащие к церкви нашей
чухонцы находятся в 11 приходах в северо-западной части псковского уезда. Число
их (обоего пола) простирается до 6000, а вместе с лифляндскими до 8000. Язык
употребляется у них свой, и хотя все отцы семейства хорошо знают по-русски, но
другие члены семейств, особенно женский пол, или вовсе не знают, или знают
недостаточно. Это очень затрудняет выбор для эстонских приходов священников, для
коих необходимо знать язык чухонский. Между тем, редко случается, чтобы знал
оный кто-нибудь из окончивших курс воспитанников семинарии", - сокрушался
архиепископ. Вскоре
и рижский епископ Филарет обратился с жалобой к верховному прокурору графу
Протасову, мол, случаются в приходах всевозможные несуразности, поскольку не
владеют православные батюшки языками люда ливонского. После подобающего запроса
к руководству Псковской духовной семинарии решено было открыть при ней классы
эстонского и латышского языков, что и произошло в августе 1842 года. При приёме
в языковые классы семинария отдавала предпочтение детям православных
священников из смешанных приходов. Найти
учителей для этой молодёжи было совсем непросто. Сам архиепископ Натанел
распорядился о том, чтобы немного говоривший по-эстонски младший брат
православного батюшки из Вярска по фамилии Верхоустинский был отправлен в
Дерпт, где бы выучился на учителя эстонского языка у известного переводчика
православной литературы, признанного современниками педагога Ивана Лунина.
Однако Синод предпочёл назначить учителем уже принявшего сан старшего брата,
который послушно отправился в университетский город, дабы более основательно
приобщиться к языковым премудростям, однако, обнаружив, что все доселе
существующие книги по эстонской грамматике написаны на немецком, расстроился и
не солоно хлебавши воротился во Псков, где и отказался от предложения Синода. Дабы
спасти положение, изначально не владевший ни эстонским, ни латышским языками
семинарский инспектор Князев на свой страх и риск взялся за перевод с немецкого
на русский недоступных прежде пониманию русского человека мудрёных грамматик. К
сожалению, эти труды так и не дошли до потомков. Первый же сохранившийся и
доныне учебник эстонского языка для русских чуть позже был написан тем самым
Иваном Луниным. Лунин же составил и первый эстонско-русский словарь. Созданные
на основе стародавних трудов Аугуста Вильгельма Хупеля лунинские пособия -
грамматика и словарь - вышли в свет в 1853 году, став важным шагом на пути
преодоления языкового барьера между эстами и великороссами. Псковская
же духовная семинария занималась обучением эстонскому языку будущих православных
батюшек вплоть до 1855 года. Позже тамошние языковые классы были закрыты под
предлогом того, что в Риге, мол, также имеется соответствующая семинария. По
мнению церковного руководства, она выпускала из своих стен достаточное число
поднаторевших в местных языках священнослужителей. Впрочем,
известно, что ещё в эпоху средневековья среди монахов таллиннского
Доминиканского монастыря были и эстонцы, охотно бравшиеся за обучение
эстонскому языку своих иностранных собратьев. Таким образом, эстонский, как,
видимо, и всякий другой национальный язык, начал выходить за пределы своих
естественных этнических границ задолго до появления первых посвященных ему
научных изысканий.
|